«Чай наш грузинский» Часть 1
По дороге в поселок Чакви, что недалеко от Батуми, я всегда любуюсь склонами гор, которые на всем пути обступают дорогу. На них когда-то в прошлом были посажены первые кусты чая, привезенные сюда из Китая. Не сразу они прижились тут. Но со временем выяснилось, что для этого заморского растения здесь подошел состав почвы, горная вода и, главное, климат этого причерноморского побережья. Постепенно на горных склонах вокруг Чакви появились обширные чайные плантации. А место это до сих пор называют родиной грузинского чая.
Расцвет грузинской чайной промышленности совпал с советским периодом. А упадок — с распадом Советского Союза. Когда-то здесь успешно работали три чайных фабрики. Их продукцию хорошо знали не только в самых отдаленных районах страны, ее поставляли и за рубеж.
Теперь здесь не видно чайных плантаций, ну если у кого-то на приусадебном участке из местных жителей еще есть чайные кусты. Но, как прежде, чай в этих местах теперь не выращивают. Я пытался понять, почему? Ответ на этот вопрос оказалось найти непросто. Многие, в разговоре со мной, тяжело вздыхали, задумывались и не знали, что ответить …
«Чай наш грузинский»

Я долго пытался найти кого-нибудь в Батуми, кто мог бы мне рассказать об истории грузинского чая. О его славных временах и о том, что случилось за последние три десятка лет. Оказывается, за это, не такое уж и продолжительное время, многое оказалось забыто. А за этот период в стране сменилось уже целое поколение. То, что пишут о грузинском чае в Интернете, не дает полной ясности. А многие люди постарше не хотят об этом вспоминать.
Потому я для начала решил озвучить некоторые фрагменты из книги Михаила Давиташвили «Чай наш грузинский». Эта книга вышла в Грузии в 1966 году, сначала на грузинском языке, а позже была переведена и на русский язык. Михаил Давиташвили был за нее удостоен премии Союза журналистов СССР.
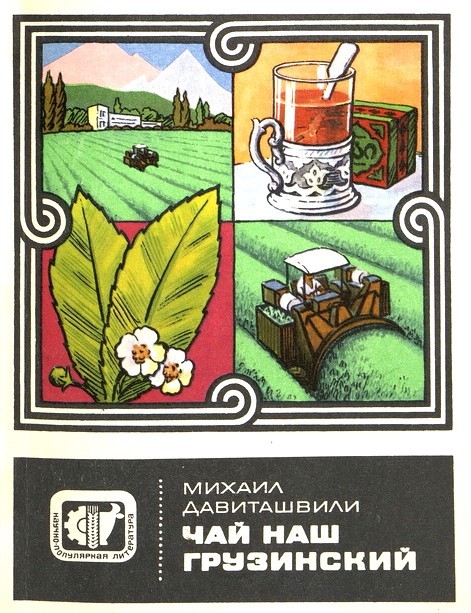
Литературным редактором русского издания стал известный журналист Юрий Черниченко, а предисловие к ней написал не менее известный в прошлом российский журналист Василий Песков. Обращаясь к читателям, он писал: «В ней «вы узнаете о лечебных свойствах напитка и об истории чая. Узнаете, как, где и по скольку пьют чай. Вы узнаете, что происходит с человеческим организмом после чашки крепкого чая, узнаете, почему проясняется голова, легче работается. Станет понятной запись Толстого: «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души». Воспользуемся опытом Льва Николаевича и полистаем страницы книги, которая была написана Михаилом Давиташвили более 60 лет тому назад. В ней он пишет:
«…Много есть хороших напитков – прохладительных, питательных, целебных, и каждый по-своему ценен, по-своему знаменит. Но с напитком (под названием) «чай» не сравнится никакой другой: его знают, его любят миллионы людей во всех (частях) планеты, его пьют во всякое время года, во всякий час дня и ночи, как лакомство и как лекарство, за дружеской беседой и за рабочим столом. Чай – верный друг человека с детства и до старости, он дает нам заряд бодрости, бережет здоровье, он помогает нам жить!
Сравнивая действие чая и алкоголя, американский ученый Джинкинс отмечал, что алкоголь чрезмерно возбуждает нервную систему и тут же угнетает, а чай лишь умеренно возбуждает ее, нисколько не угнетая. Замечательным отличием чая является при этом его абсолютное преимущество перед всяким алкогольным напитком в стимулировании высшей нервной деятельности человека, в том, что мы называем в обиходе повышением умственных способностей.
«Чай придает человеку решимость, увеличивает способность перерабатывать впечатления, располагает к сосредоточенному мышлению», – говорил известный физиолог Молешотт. По его заключению, чай в сравнении с кофе меньше возбуждает фантазии и дает возможность выполнять умственную работу с большим спокойствием и сосредоточенностью, не вызывая такого напряжения мысли, какое вызывает кофе.
В Англии во время Второй мировой войны рабочим военных заводов бесплатно давали чай, владельцы некоторых предприятий практикуют это и сейчас как выгодную меру, повышающую производительность труда.
Пить чай по давней традиции принято на всевозможных дипломатических встречах и важных переговорах.
В стакане крепкого чая около 0,05 грамма кофеина, то есть примерно столько же, сколько в таблетке от головной боли. Не даром чаем издавна лечат головную боль. Заметим, кстати, что в чайном листе и сухом чае кофеина примерно втрое больше, чем в кофейных зернах, так что сам по себе он скорее не кофеин, а чаин.
Высшие сорта грузинского зеленого чая по сосудоукрепляющей активности даже превосходят (некоторые) медицинские препараты.
Вообще трудно назвать функцию организма, которой не содействовал бы чай, и болезнь, при которой он не был бы полезен. Если он и не умерит вредоносную активность микробов или другого болезнетворного начала непосредственно, то в большей или меньшей мере сделает это косвенным путем, – улучшая витаминный обмен, активизируя функции систем организма, нарушенные болезненным процессом.
Чай – прекрасный терморегулятор тела. Вот что писал русский ученый и путешественник Егор Ковалевский: «Кто не испытал этого благодетельного напитка на себе! Зимою в дороге, когда замерзаешь от холода, или в жаркой пустыне, когда на всем теле делается до того сухо, как будто бы кожа отстает от тела, – стоит только выпить 2–3 чашки чаю, чтобы снова ожить и быть способным продолжать путь». Этот отзыв совершенно справедлив: горячий чай, согревая человека зимой, освежает его в летнюю жару. Испаряясь с разгоряченной поверхности тела, он рассеивает в пятьдесят раз больше тепла, чем содержит; об этом его свойстве хорошо знают народы жарких стран.

Зеленый чай и в этом отношении превосходит черный. Естественно, что его любят в Африке, в Средней Азии.
Историческая родина чайного куста – Юго-Западный Китай и прилегающие районы Бирмы и Вьетнама. Родина чая-напитка – Юго-Западный Китай, провинция Юньнань. Здесь чай известен с незапамятных времен. В китайских письменных источниках он упоминается за 2737 лет до нашей эры. Как свидетельствует китайская легенда, некогда пастухи заметили, что стоит овцам или козам отведать листьев какого-то вечнозеленого деревца и они становятся резвыми, бойкими, легко взбираются на гору. Пастухи решили попробовать действие листьев на себе, высушили их, заварили в кипятке, как поступали с другими лекарственными травами, и стали пить ароматный настой. Так была открыта «божественная трава». В середине IV века китайцы ввели ее в культуру.

Сперва чай был лекарством, причем его употребляли не только как питье, укрепляющее силы и волю, «радующее дух», снимающее головную боль, но и в виде пасты против ревматических болей. Чай высоко ценился, императоры дарили его своим сановникам за услуги! Лишь позднее, в VI веке, он стал обиходным напитком аристократии, а в общенародный, национальный напиток Китая превратился в X веке.
В разных древних сочинениях чай называли «тоу», «тсе», «кха», «чунг», «минг». В IV–V веках, когда практика показала, что лучший напиток получается из самых молодых листьев, к этим первородным именам чая прибавилось еще одно «ча», что значит «молодой листок».
В зависимости от местного названия того или иного сорта китайцы применяют сейчас множество слов, обозначающих чай, но большинство их содержит частицу «ча». Словом «ча-е» называется по-китайски чай в листьях, словом «ча-и» – готовый сухой чай и чай-напиток. Русское слово «чай», которое впервые пришло к нам как монгольское «цай», переняли от нас болгары, сербы, чехи; португальцы говорят «чаа», арабы – «шай», народы Индии и Пакистана – «чхай» или «джай», калмыки – «ця», народы Средней Азии – «чай» или «чой».
Европейцы в большинстве стран назвали чай словом «ти» или «тэ», по японскому произношению «тьа», от которого произошло и ботаническое латинское название чая «тэа».
Самые нежные верхние листочки побега, покрытые серебристо-белыми волосками, составляющие особо ценную часть сырья, стали называться в Китае «бай-хоа» – «белая ресничка»; китайские чайные купцы часто произносили это слово, подчеркивая высокое качество товара, и в русской терминологии название «байховый» приобрело обобщенный смысл: так мы называем сегодня все сыпучие чаи в отличие от прессованных.
Древние буддисты создали легенду о божественном происхождении чая и его высоком назначении. Давно, очень давно, говорит эта легенда, на Желтой Земле жил старый монах Даррама. Увидев однажды во сне Будду, он так возликовал, что дал обет день и ночь проводить в молитве, не смыкая глаз. Он долго противился сну, но наконец, побежденный усталостью, крепко заснул. Проснувшись, Даррама разгневался на себя, отрезал себе веки и бросил их на землю. На месте ужасного жертвоприношения вырос дивный куст: листья его дают чудесный напиток, вселяющий бодрость…
Буддисты пили много чая, чтобы продлить часы благочестивых размышлений. В китайских манускриптах встречается такое восхваление чая: «Чай усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселяться лени, облегчает и освежает тело, проясняет восприимчивость… Сладкий покой, который ты обретешь от употребления этого напитка, можно ощущать, но описать его невозможно… Пей медленно этот чудесный напиток, и ты почувствуешь себя в силах бороться с теми заботами, которые обыкновенно удручают нашу жизнь».
Знаменитый китайский поэт Луву (Лу Юй), фаворит императора Тайсунта, посвятил чайному делу трехтомный труд «Чакинг», то есть «Священное писание о чае» («Чайный канон»).
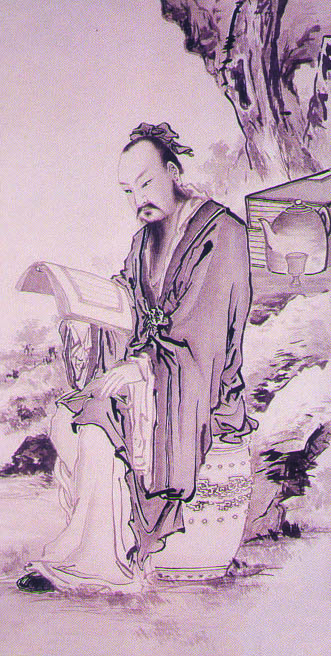
В европейской литературе, видимо, первое упоминание о чае принадлежит арабскому путешественнику Абу-Зейд эль-Гасану, который отмечает, что после 879 года налоги на этот товар были главными источниками доходов в Кантоне. В XIII веке о чае писал (венецианский купец и путешественник) Марко Поло, в XVI рассказывали о нем (художнику) Джиованни Батиста.
Первыми завезли чай в свою страну в 1517 году португальцы, за ними в 1610 году – голландцы. С XVII века, когда чай стали завозить в Европу корабли Ост-Индской компании, он начал медленно, но верно завоевывать европейские города и села.
Прочней всего обосновался чай в Англии. Здесь история чаепития началась с 1664 года, когда купцы Ост-Индской компании преподнесли в дар королю два фунта чая. От придворных и знати мода на чай стала распространяться все шире. На первых порах не все знали, как обращаться с листом китайского куста: некоторые делали из него салат! Но такие недоразумения со временем рассеялись. В первой половине XVIII столетия кофейни Лондона фактически превратились в чайные. Потребление чая в Англии в несколько раз превзошло его потребление в Китае. Верными поклонниками напитка бодрости стали многие выдающиеся англичане. Знаменитый лексиколог, поэт и критик XVIII века Самюэль Джонсон, проживший большую жизнь, рекомендует себя в качестве закоренелого и бесстыдного чаепийцы, который в течение двадцати лет запивал свою еду только настоем этого очаровательного растения, который за чаем проводил вечера, чаем утешался в полночь и чаем приветствовал утро.

Англия наших дней по любви к чаю оставила далеко позади все другие страны. Англичане пьют настой совершенно непривычной для нас крепости и пьют везде – дома, на фабриках и заводах, в учреждениях, учебных заведениях, на вокзалах и автостанциях, в каждом ресторане, кафе, отеле, на всех приемах и встречах…
Япония познакомилась с чаем, вероятно, в начале VIII века: есть сведения, что в 729 году император «при дворце угощал чаем сто монахов». Секреты чаеводства страна освоила в IX веке (китайский чай образовал здесь морозостойкую мелколистную разновидность).
В народный обиход чай вошел в Японии гораздо поздней только в XVII веке. Почти одновременно с японцами – в начале IX века – стали осваивать чаеводство корейцы. С 1824 года разводят чай на Яве голландцы. С первой половины XIX столетия начинают быстро культивировать чайный куст Индия (с 1834 года) и Цейлон (с 1842 года); к концу века их чай уже теснил на мировых рынках китайский. Стали развивать весьма доходную отрасль и некоторые другие страны.
По мере распространения чай встречал все более положительную оценку и поддержку – и стал, наконец, самым любимым напитком мира, завладев рядом крупнейших государств. В Европе в силу различных исторических причин (обычно по характеру торговых связей того или иного государства) чай не вытеснил более «старый» кофе лишь в сравнительно небольшом числе стран – Испании, Франции, Австрии, Германии, Скандинавских странах, а в остальных утвердил свое господство почти безраздельно. В начале XVIII века он вместе с английскими колонистами поселился в Америке.
Искусство делать чай – тонкое, оно досталось нам в дар от давно умерших поколений и усовершенствовано поколениями новых мастеров. В этом искусстве, как и во всяком другом, прекрасному нет предела.
Когда в Европе познакомились с чаем, у него наряду с друзьями нашлись и враги. Они говорили, что чаепитие – это порочный, отвратительный обычай, и даже утверждали, что от чая мужчины теряют стройность и привлекательность, а женщины – красоту. В России некоторые религиозные секты отвергали чай так же, как табак; в мещанской среде ему приписывали самые нелепые вредоносные свойства. Однако реальные достоинства чая пробили ему дорогу сквозь заслон выдумок. Сегодня полезность чая уже не подвергается сомнению, хотя далеко не все из нас ценят чай в меру его заслуг. Ему посвящена богатая литература, в которой не только славят чай за товарные качества, но и числят за ним достоинства нравственного, так сказать порядка.
Основатель и первый президент Государственной академии искусств в Токио Какудзо Окакура в своей «Книге о чае» отмечает, что в VIII столетии чай стал на своей родине – в Китае – средством утонченного развлечения. В XV веке чаепитие возводится прямо-таки в культ: заходит речь об особом религиозно-философском направлении – «теизме». Объясняя природу «философии чая», Окакура говорит, что заветный напиток – это приятное без излишества, уникально ценное без дороговизны, это скромность и естественность, гостеприимство и миролюбие. Чай – это удовольствие и польза, добро и красота. Это – гигиена, потому что побуждает к чистоте; это – бережливость, потому что учит находить комфорт в простом скорее, чем в сложном и дорогом…

С XV века в Японии сложился целый ритуал чаепития – «тяною», позаимствованный из Китая; в XVI веке его довел до совершенства просветитель Сэнрикю. Чай получает особое, возвышенное значение в домашнем обиходе. У каждой японской семьи (конечно, достаточно состоятельной) были особые «чайные комнаты» (а часто отдельный домик), в которых происходила доведенная до высокого совершенства чайная церемония. Небольшая комната обставлялась просто, даже бедно, все в ней было в спокойных тонах, кроме всегда ослепительно-белой скатерти и белого же бамбукового ковша для разливания чая; украшением были цветы в вазе (иногда один цветок), причем недопустимо было сочетание живых цветов с нарисованными. Тонкий эстет мог, например, над букетом водных лилий поместить картину с изображением летящих над озером диких уток. Исключалось навязчивое однообразие, повторение красок, изгонялась симметрия, жесткая определенность. Если чайник был круглый, то кувшин для воды угловатый; если чайница черная лакированная, то не допускались чашки с черным рисунком. Особенно ценился синий и белый китайский фарфор. Везде и во всем была идеальная чистота, включая дорожку в саду, которая вела в чайную комнату. Эту дорожку могли украшать специально стряхнутые с деревьев золотые и алые осенние листья, а старинные металлические вещи в комнате полагалось чистить слегка, не до блеска…

По названию чайной комнаты – «Приют фантазии» – можно составить некоторое представление о том, как в отрешении от вульгарных забот и невзгод принимали здесь гостей (обычно не больше пяти)… Пить мастерски приготовленный чай за изысканно сервированным столом, наслаждаясь гармонией форм и красок,– таков был высший смысл чайной церемонии. Ее специальным содержанием было умение ловко, изящно, безупречно вымыть и подать посуду, приготовить «церемониальный» зеленый чай, измельчив его в порошок, заварить его, многократно засыпая маленькими порциями в чайник и тут же заливая понемножку кипятком и взбивая бамбуковой мутовкой, и, наконец, предложить готовый чай гостю.
А гостю подобало распробовать его, оценить, выразить удовольствие и благодарность хозяину. Иногда всю хозяйскую работу делали красиво одетые девушки, сопровождая ее пластичными, изящными телодвижениями. Доставить другу самое большое наслаждение в пределах скромных возможностей, сполна передать ему свое доброе чувство – вот в чем было высшее искусство чайного ритуала.
Определением «мастер чая» (в европейской транскрипции «тимейстер») в Китае и Японии была выделена особая категория людей; это определение звучало почти почетным титулом. Оно означало не столько специалиста-кулинара, сколько мудреца-поэта, возвышенного мечтателя, ценителя искусства, мастера изящного и благородного «чайного образа жизни». О таких людях Окакура говорит: «В распорядке нашего домашнего обихода мы чувствуем присутствие тимейстеров. Они изобрели многие наши тонкие блюда, ими же выработаны детали сервировки стола. Они приучили нас одеваться в платье только неярких цветов… Они выявили нашу природную любовь к простоте. Фактически благодаря их наставлениям чай вошел в обиход народа».
